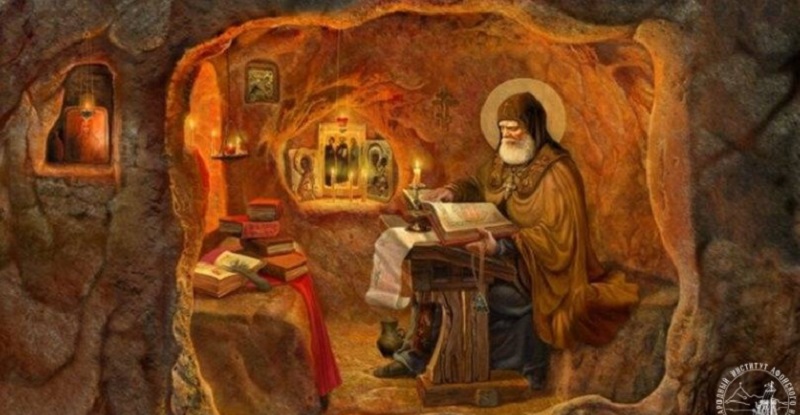Афонский старец Иоанн Вишенский (1550-е – 1620-е гг.) является одним из ярких представителей православного движения в Украине XVII в., занимающим важное место в истории украинской духовной культуры1. Информационно-просветительский отдел УПЦ размещает статью историка С. Шумило, опубликованную на сайте afon.org.ua.
Он был одним из тех немногих церковных авторов, чьими произведениями зачитывалась даже нецерковная интеллигенция конца ХIХ – начала XX в. Позже произведениям Вишенского успешно удалось выдержать и даже пережить жесткую цензуру коммунистическоатеистической пропаганды.
Иван Франко считал произведения старца Иоанна вершиной украинской полемической литературы конца XVI – начала XVII в., посвятив их изучению отдельную монографию и серию статей. «Немного у нас в старину было людей, которые посмели бы и сумели так близко прикоснуться к насущным духовным потребностям нашего народа и выявлять те нужды его бытия таким горячим и ярким словом»2, – объяснял свой интерес к творчеству афонского отшельника писатель.
Высоко ценил произведения Иоанна Вишенского Пантелеимон Кулиш, называя его «афонским апостолом Руси»3. Исследуя духовное наследие старца, писатель сумел наиболее точно подметить роль и значение «блаженного Иоанна»: «он давал сбившимся с дороги направление; он ободрял, он пророчествовал, и так действительно сталось, как он пророчествовал среди бури»4.
Валерий Шевчук так писал об афонском старце в советское время: «жизнь не забыла Вишенского, воскресив в памяти человеческой эту неординарную личность, перенимая из его произведений все доброе и светлое, что человека облагораживает и возносит. Она сплетает далекому … страннику, будившему общественное сознание на грани XVI – XVII в., надлежащий венец»5.
Духовное наследие старца Иоанна Вишенского, несмотря на то что его произведения широко известны благодаря особому вниманию со стороны светских писателей и исследователей XIX-XX вв., по сей день остается мало понятым с духовной точки зрения. Недостаточно остается изученной и его биография. Особенно мало известно о начальном периоде жизни писателя-полемиста на Афоне. До сих пор не предпринимались попытки реконструировать маршруты странствий и определить локализацию его пребывания на Святой Горе.
К сожалению, Иоанн Вишенский не оставил воспоминаний об обстоятельствах своего ухода на Афон. Неизвестна и точная дата этого события. Однако отчасти эти моменты можно реконструировать, опираясь на другие, косвенные свидетельства и источники. В частности, учитывая, что Вишенский состоял в близкой дружбе с прп. Иовом (Княгиницким), можно предположить, что в путешествие на Святую Гору они отправились вместе. А если так, то важным источником, приоткрывающим затерянные страницы биографии Иоанна Вишенского, может служить Житие прп. Иова (Княгиницкого), написанное его учеником иеромонахом Игнатием из Любарова6.
В этом сочинении о. Иоанн Вишенский назван близким другом прп. Иова7. Аналогично и Иоанн в своем послании к Иову Княгиницкому называет его «возлюбленным братом»8. Они были сверстниками, знакомыми еще по службе у князя Острожского. По его поручению, по-видимому, они и отправились вместе на Афон. Во всяком случае, период их ухода на Афон совпадает по времени. А поскольку в ту пору такие дальние странствия были не безопасны и сопряжены со всевозможными трудностями, то они не совершались в одиночку, а практически всегда – в сопровождении близких и духовно единомышленных друзей. Поэтому логично, и всего вероятнее, что прп. Иов (Княгиницкий) отправился на Афон в сопровождении именно Иоанна Вишенского как самого близкого своего друга.
Учитывая эти обстоятельства, на основе Жития прп. Иова мы вполне можем восполнить недостающую важную деталь странствия будущего старца Иоанна на Афон. В частности, из Жития известно, что на Святую Гору Иов Княгиницкий отбыл по поручению князя Василия-Константина Острожского вместе со святогорским иеромонахом Варлаамом для передачи пожертвований в ответ на «святых отец писание»9. На Афоне Княгиницкий как княжий слуга был принят с честью и посетил многие монастыри, скиты и пустыни, где подвизались старцы, «яко ангелы безвещественны»10. Впечатленный увиденным («видеше бо яко вторый рай» и «второе небо»), он окончательно осознал суетность светской жизни и возжелал остаться на Святой Горе, однако вынужден был возвратиться домой, дабы выполнить поручение князя и передать ему ответ святогорских старцев11.
Покидая Афон, он дал обет одному из старцев возвратиться на Святую Гору и стать здесь монахом. Поэтому по возвращении он испросил у князя Острожского прощение и попросил отпустить его, что тот и исполнил, поблагодарив за службу и щедро одарив своего бывшего слугу. Получив разрешение князя, Княгиницкий вновь отправился в путь «с некоими еже в Святую Гору, възвращая по обещанию»12.
Стоит обратить внимание, что в житии прп. Иова уточняется, что на Афон он возвратился не сам, а «с некоими»13. Вероятнее всего, одним из этих «некоих» и был Иоанн Вишенский.
Ученик прп. Иова Княгиницкого сообщает, что на Афоне он «пребы же тамо во послушании и общем житии 12 лет неотходно»14. А поскольку в Украину он возвратился около 1601-1603 гг., то можно определить, что ушли оба подвижника на Афон около 1589-1593 гг. Тот факт, что на момент Брестской унии 1596 г. Иоанн Вишенский давно уже был на Святой Горе, подтверждает и он сам, сообщая в одном из своих посланий за 1597 г.: «Сам на той час у ваших краях несьм был»15.
Судя по всему, отцы Иоанн Вишенский и Иов Княгиницкий странствие на Афон совершали через Молдовлахию, Болгарию и Македонию. Еще Иван Франко обратил внимание на то, что из писания Вишенского, известного под названием «Новина, или Весть о обретении тела Варлаама, архиепископа Охридскаго…», видно, что он бывал в Охриде и хорошо знал этот древний южнославянский центр на Балканах16.
Относительно начального периода пребывания на Афоне в Житии прп. Иова сообщается, что на первых порах он не поселялся в каком-то конкретном монастыре, но скитался по разным обителям Афона: «обходи с радостию вся святыя обители, посещая и молитствуя, таж и в келиях старца и скитники, и в пещерах сущи, всем ревнуя и о молитву прося. И по сем вдает себе в послушание некоему старцу скитствующу иеромонаху Исидору»17.
Это сообщение о прп. Иове совпадает со свидетельствами старца Иоанна Вишенского, из посланий которого мы узнаем, что на Святой Горе он какое-то время «от келия до келия и от монастыря до монастыря скитати»18. Самого же себя он именует: «инок русин во святей Афонстей горе странствуяй»19 или «странник реченный Вышенский”20.
На основе этих свидетельств двух сподвижников можно сделать вывод, что поначалу они вместе скитались по Афону «от монастыря до монастыря», пока каждый из них не обрел своего духовного наставника. Аналогичный путь со временем повторил на Афоне и прп. Паисий Величковский, долго скитавшийся по отшельническим келлиям, скитам и монастырям Святой Горы в поисках старца, которому мог бы вручить свою душу и от которого научился бы тайнам мистического опыта непрестанного молитвенного делания.
Однако в дальнейшем, судя по всему, духовные пути двух товарищей несколько разошлись. И если прп. Иов выбрал жительство при келлии крупного греческого Ватопедского монастыря, то Иоанн Вишенский отдавал предпочтение уединенному скитскому жительству. Позже, после 1605 г., они вновь сойдутся на короткое время уже в Украине, однако затем, посоветовавшись, «жесточайшаго безмолвнаго жития желающе», вновь разойдутся по непроходимым лесным зарослям Карпатских гор в поисках пустынных мест для уединенного отшельнического молитвенного подвига21.
К сожалению, в посланиях старца Иоанна не сообщается, при каких из афонских монастырей он подвизался в келлиях и скитах в первый период своего пребывания на Афоне (а это не менее 12 лет). В то же время, по святогорскому уставу, даже подвизаясь в отшельнических келлиях или исихастериях, он должен был относиться к какому-то из монастырей, между которыми поделена вся территория Афона (и где каждая из келлий, калив, исихастериев и пещер, как и скиты, относится к тому или иному кириархальному монастырю).
Судя по косвенным намекам в посланиях, Иоанн Вишенский отдавал предпочтение именно славянским обителям на Афоне – древнерусскому Русику, болгарскому Зографу, сербским Хиландарю и Павловскому монастырю, на тот момент населявшемуся сербами.
Позже в некоторых из своих посланий старец Иоанн называет себя «скитствуяй в Святой горҍ»22, что дает основание полагать, что какое-то время он подвизался при одном из святогорских скитов.
Странствуя по скитам и монастырям Афона он, несомненно, бывал в Русике – старинном древнерусском монастыре св. Пантелеимона, как и действовавшем при нем ските Ксилургу – древнейшей русской святогорской обители, основанной еще во времена св. равноап. Великого Князя Владимира Киевского вскоре после Крещения Руси. По сведениям монастыря, в период пребывания подвижника на Афоне, в Русике подвизалось несколько монахов с именем Иоанн23. Не исключено, что один из них и был Вишенский.
Этот древнерусский монастырь издревле являлся центром русского святогорского монашества и духовного просвещения на Афоне.

Древнейшая русская Свято-Успенская обитель «Ксилургу» на Афоне. Фото Сергея Шумило
В святогорском Акте за 1016 г. обитель Ксилургу (греч. – плотник или древодел) значится как «монастырь Роса», а подпись ее игумена Герасима стоит тринадцатой среди двадцати одной подписи всех настоятелей действовавших на тот момент афонских монастырей24. На сегодняшний день это первое известное письменное упоминание о древнерусской обители Успения Богородицы «Ксилургу» на Афоне. По преданию, именно здесь подвизался родоначальник древнерусского монашества прп. Антоний Печерский25. Из документов, хранящихся в архиве Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, известно, что к 1030 г. Ксилургу имел статус Игуменария (акт 1)26, а в указе византийского императора Константина IX Мономаха от 1048 г. именуется Царской Лаврой (акт 3)27. В подражание этой «материнской» обители, по всей видимости, прп. Антонием и был основан на Киевских горах Печерский монастырь, также названный в честь Успения Божией Матери28.
Именно древнерусский святогорский монастырь был тем духовноисторическим связующим звеном, тесно соединившим новопросвещенную Киевскую Русь и Святую Гору Афон. Из него преподобным Антонием Печерским впервые было перенесено и утверждено на Руси православное монашество. Помимо святого Антония, обитель Ксилургу дала Руси и других подвижников и просветителей.
К XII веку обитель настолько часто пополнялась новыми насельниками из Руси, что, не вмещаясь уже в первоначальном монастыре, стала приобретать обедневшие и запустевшие келлии и малые обители в округе29. В 1169 г. при игумене Лаврентии обитель с разрешения Священного Кинота переехала на новое, более удобное место, в находящийся неподалеку древний монастырь «Фессалоникийца» во имя святого целителя Пантелеимона (ныне известный как «Старый Русик», или «Нагорный Русик»), который к тому времени оказался брошенным греческими монахами30.

Старый или Нагорный Русик
На этом месте братство Русика просуществовало около 700 лет. Что же касается прежнего места нахождения обители – Ксилургу, то оно не осталось заброшенным. Монастырь был преобразован в скит, который остался в ведении Русика31.
С переселением на новое место русское иноческое братство продолжало выполнять свою традиционную функцию распространения святогорского монашеского наследия. Так, в 1180 г. именно в Русике принимает постриг сербский царевич Растко, будущий святитель Савва – основатель автокефальной Сербской Православной Церкви32. Судя по всему, в то время Русик имел исключительно важное значение не только в деле православного просвещения Руси, но также Сербии и всего славянства.
В ХV-ХVI вв. в Русике, помимо русских иноков, подвизались также болгары и сербы. Иногда, при отсутствии пополнения братства из Руси, их количество в обители превышало русских; из их числа избирались даже игумены, однако монастырь по-прежнему традиционно продолжал считаться русским33.
Свое значение духовного центра русского святогорского монашества Русик, как и подведомственный ему древнерусский скит Ксилургу, не утратил и в XVI веке, хотя и пережили они оба трагические периоды упадка и разорения. К рассматриваемому нами периоду обе обители пребывали в состоянии нового подъема34, возобновив отношения как с Московским царством, так и с Украиной (в частности, с князьями Острожскими).
Поэтому вероятнее всего, что, обойдя обители и скиты Афона, Иоанн Вишенский последовал примеру других своих соотечественников и первоначально поселился в Русике, а позже, по благословению игумена монастыря, уединился в скиту Ксилургу, расположенном в пустынной горно-лесистой местности, идеально подходящей для отшельнического «жесточайшаго безмолвнаго жития». Вероятно, именно с этим и связано его излюбленное выражение «скитствуяй в Святой горЪ»35. Таким образом, как и большинство других русских святогорцев, свое иноческое обучение на первых порах, скорее всего, он проходил под началом не греческих, а русских афонских старцев, причиной чему мог быть и известный языковой барьер, характерный для славянского монашества на Афоне по сей день.
До наших дней в архиве Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря сохранилось послание старца Иоанна Вишенского под названием «Зачапка мудрого латынника з глупым Русином» (16081609), переписанное в XIX в. с более древней рукописи36. Как уже отмечалось, в описываемый период в Русике было несколько иноков Иоаннов – одним из них вполне мог быть Вишенский.
В некоторых посланиях старец Иоанн обильно ссылается на творения Дионисия Ареопагита. Перевод этих произведений на славянский язык осуществил игумен Афонского Пантелеимонова монастыря Исайя (†1375)37. Глубокое знание и цитирование Вишенским Ареопагита говорит о том, что Иоанн пользовался именно славянским переводом, который мог храниться тогда и в библиотеке Русика.
Среди прочего, о пребывании старца Иоанна именно в Русике может свидетельствовать и его осведомленность о подвижниках и святых, почитаемых в Московском царстве. «Прочитай истории житий оных святых мужей, чюдотворцов великих»38, – пишет Петру Скарге с Афона старец о московских святых. Скорее всего, знакомство самого Иоанна с историями «житий оных святых» («великоросийским от Бога почтенных святым мужем») могло произойти при посредничестве выходцев из Московской Руси, также подвизавшихся в древнерусской обители на Афоне.
Известны случаи, когда именно в Русик посылали для обучения греческому языку и грамоте посланников даже от московских царей. Так, в 1551 г. московский царь Иван IV Грозный посылал в Русик на обучение «паробка Обрюту Михайлова сына Грекова», передавая с ним пожертвования на монастырь39. В письме к Константинопольскому патриарху Дионисию II (1546-1555) царь писал по этому поводу: «ты бы велел его у себя учить грамоте греческой и языку: а если тебе у себя его научить нельзя, то отошли его на Св. гору Афонскую, в наш монастырь св. Пантелеймона»40. Этот факт подтверждает, что на тот момент Русик был важным духовно-культурным центром, при котором выходцы из разных частей Руси имели возможность не только проходить духовное воспитание, но и обучаться греческому языку и грамоте.
Во второй половине XVI в. посланники Русика все более активно начинают через Украину ездить в Москву для сбора милостыни. С этого времени, по всей видимости, устанавливаются и их контакты с князем Василием-Константином Острожским. В частности, известно, что по приглашению князя в 1596 г. в Бресте на антиуниатском Православном соборе, созванном по инициативе К. Острожского, участвовал и игумен Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря архимандрит Матфей. Его подпись стоит одной из первых (шестой) под решением Брестского Собора от 9 октября 1596 г., известным под названием Апофазис41. Этим соборным актом отступившие от православия епископы объявлялись лишенными священного сана. На Соборе архимандрит Матфей представлял Мукачевского епископа Амфилохия. Как известно, Мукачевская епархия в ту пору входила в состав Угровлахийской митрополии, а в самих Волошских землях действовали метохи Пантелеимонова и других афонских монастырей. Все это свидетельствует об имевшихся уже на тот момент тесных связях между игуменом Русика и князем Острожским, в результате чего архимандрит Матфей и принял участие в антиунийном мероприятии, инициированном князем. Возможно, именно этот о. Матфей при предыдущих посещениях Украины и повлиял на принятие Вишенским, служившем при князе Острожском, решения отправиться на Афон.
К сожалению, о самом отце Матфее сведений сохранилось очень мало. Из летописных и документальных источников известно, что в 60-е – 90-е гг. XVI в. через территорию Украины по благословению Константинопольских патриархов неоднократно проезжали представители Русика, в числе которых часто упоминается и некий о. Матфей. Так, в конце 1590 – начале 1591 г. через земли Украины в Москву к царю Феодору Иоанновичу прибыла делегация от Русика во главе с архимандритом Неофитом и в сопровождении священника Матфея: «пришли старцы из Святые Горы из Русского монастыря честные обители святого Великомученика и целебника Пантелеимона Архимарит Неофит да келарь Иаким да свещенник Матфей»42. Через год они вновь возвратились на Афон через территорию Украины43.
Во время всех этих переездов через земли Украины представители восточных патриархов и афонских монастырей контактировали с местными ктиторами и защитниками православия, главным среди которых был князь Константин Острожский. Поэтому не подлежит сомнению, что игумены и представители Русика, среди которых упоминается и «священник Матфей», по крайней мере, в 1560-62 и 1591-92 гг., общались с князем Острожским и прибегали к его защите и покровительству ради безопасного перемещения по территории Украины.
Имя игумена Русика отца Матфея известно и по судебному делу 1569 г., проходившему в два этапа на Афоне и в Стамбуле в связи с так называемой «вакуфной реформой», в результате которой все имущество афонских монастырей было объявлено вакуфным, то есть принадлежащим турецкому государству; монастыри должны были выплачивать туркам высокие налоги, «харадж», за пользование своим же имуществом, что ставило обители на грань разорения44.
Из этого дела известно, что на 1569 г. Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь был общежительным и имел братию в количестве 47 монахов. Монастырь имел на своих территориях на Афоне пирг (башня для укрытия от разбойников) у моря и 10 отдельных келейных обителей, а также вне границ – 4 келлии. Также к монастырю относился древний скит Успения Богородицы Ксилургу45. Распорядителем вакфа в Русике, согласно грамоте кадия Стамбула Мехмеда ибн Хуррем за 1569 г., утверждался о. Матфей46.
Следствием судебных исков против Русика было то, что, заплатив турецким властям огромный выкуп за конфискованные постройки и земельные угодья, монахи вынуждены были заложить все метохи монастыря и даже церковную казну. Это привело к тому, что некоторое время спустя Русик опустел, а его насельники вынуждены были перебраться в окрестные келлии и скит Ксилургу47. Из грамоты Прота Пахомия и отчета посланника московского царя Ивана Мешенинова за 1584 г. известно, что русский Пантелеимонов монастырь «стоит уже 10 лет пустым»; в нем оставалось всего лишь несколько монахов, совершавших там богослужения48.
Такое положение насельников Русика и прилегающих к нему скитов и келлий соответствует и описанию старцем Иоанном Вишенским положения монахов на Афоне под турецким игом. В частности, он сообщает, что «не точию на келий, но и на пещеры двЪ поголовщизны дукатов излЪзлЪ. Такожде и на Святую гору: от еже бЪ товар один прежде соборного гарачу, нынЪ же и до четырех влЪзло»49. При этом старец отмечает: «Аще же и тако аспрным нуждам Святая гора подлегла, но благодатию христовою мир бЪ в конец доселЪ от вохода турков и еничарскаго, и в благочестии Святая гора по древнему никакоже оскудЪвает – и аще не иматъ аспри50», в связи с чем, чтобы мирно и спокойно ныне под турками жить на Афоне, необходимо быть «желЪзн или сребрен», то есть иметь деньги на уплату туркам налогов51.
Возрождение Русика начинается после упомянутой поездки в 1590-1592 гг. делегации монастыря во главе с архимандритом Неофитом и в сопровождении священника Матфея к царю Феодору Иоанновичу52, в результате которой было получено щедрое пожертвование на восстановление обители53. Возможно, именно во время их возвращения через земли Украины на Афон к ним и присоединились Иоанн Вишенский и Иов Княгиницкий. Во всяком случае, оба события совпадают по времени.
По возвращении из поездки в Москву и Украину иноки Русика начинают на собранные пожертвования восстанавливать обитель: отстраиваются монастырские стены и корпуса, возводится новый монастырский собор на месте старого (его облик сохранился на рисунке киевского паломника Василия Григоровича-Барского 1744 г.)54.

Уже в 1596 г. избранный игуменом Афонского Пантелеимонова монастыря о. Матфей по приглашению князя Константина Острожского принимал участие в антиунийном Православном Соборе в Бресте55. Здесь, по всей видимости, он более близко знакомится как с князем, так и другими представителями Острожского православно-традиционалистского центра, такими как Киприан Острожанин, Исаакий Борискович и другими. При его участии, по-видимому, вскоре и Иоанн Вишенский составляет одно из первых своих антиуниатских посланий – «От Святой Афонской горы скитствующих», которое было опубликовано в 1598 г. вместе с посланиями патриарха Александрийского Мелетия (Пигаса) в острожской «Книжице», изданной на средства князя Константина Острожского.
Как считал Иван Франко, это послание старца Иоанна было откликом на изданный в 1597 г. акт антиуниатского Брестского собора о низложении отошедших в унию епископов56, подписанный игуменом Афонского Пантелеимонова монастыря о. Матфеем. Поэтому весьма вероятно, что и составление послания произошло не без влияния настоятеля древнерусской обители на Святой Горе.
Известно, что одно из первых своих посланий («В земли, зовемой Полской…») Иоанн Вишенский передавал с Афона в Украину через некоего «отца нашего Саву»57. В то же время среди монахов Русика известен «строитель» о. Савва, который в середине XVI в. ездил через земли Украины в Москву за сбором пожертвований на обитель58. Еще раз некий «строитель» о. Савва упоминается в актах русского Пантелеимонова монастыря в 1620-е гг., и тоже по случаю поездки через земли Украины в Москву за милостыней для Русика59. Не исключено, что это мог быть один и тот же человек, который не однажды ездил с подобной миссией в Украину и Россию60.
Говоря о Русском Пантелеймоновом монастыре на Афоне, стоит также обратить внимание на следующий факт: под 1619-1620 гг. игуменом обители значится некий о. Киприан Русин. В частности, сохранился акт святогорского синаксиса за ноябрь 1619 г. по поводу нарушения монахами Ксенофонта имущественных прав обители Дохиар. Под этим документом стоят подписи игуменов 14-ти афонских монастырей, и среди них подпись Киприан Русин. Вероятнее всего, этим о. Киприаном Русином был другой сподвижник старца Иоанна Вишенского – иеромонах Киприан Острожанин, наряду с Вишенским упоминавшийся в определении Собора Киевской Митрополии за 1621 г., известном под названием «Советование о благочестии»: «Послати до Патріархи Константинополъскаго по благословение, помоч и раду и на Свєтую Афонскую гору послати, вызвати и препровадити преподобных мужєй росов, межи иными блаженных Куприяна и Іоана порєклом Вишєнского, и прочїих тамо обретающихся, в житїи и богословїи цвитущих. Потреба ест духовная, абы и росов маючихся истинно ко житію добродЪтелному, посылати на Афон яко в школу духовную»62.
Известно, что о. Киприан Острожанин попечением князя Острожского был отправлен для обучения в греческую школу в Венеции, по окончании которой поступил в Падуанский университет63. В качестве переводчика с греческого в 1596 г. принимал активное участие в антиунийном Православном соборе в Бресте, где, несомненно, общался с игуменом Афонского Пантелеимонова монастыря архимандритом Матфеем. Он несколько раз посещал восточных патриархов Мелетия Пигаса и Кирилла Лукариса с целью координации антиуниатской деятельности, затем ушел на Афон, где и остался. Киприану принадлежит перевод с греческого на славянский «Бесед Макария Египетского» (1598), сборника афоризмов «Пчела» (1599), «Синтагматиона о семи святых таинствах» митр. Гавриила Севира (1603), «Бесед Иоанна Златоустого на Евангелие от Иоанна» (1605). Константинопольский патриарх Кирилл Лукарис именовал о. Киприана «образованнейшим, искусным в языке и греческих науках»64. А Киево-Печерский архимандрит Захария (Копыстенский) в 1623 г. характеризует его как «преподобнаго въ сщенноиноце(х) Купрїана суща отъ града Острога, мужа въ Єллинскомъ дїалєктЪ искусна, въ Єнетїихъ же и Патавїи любомудрствовавша, по сихъ въ стЪй горЪ АфонстЪй поживша, и ннЪ тамо въ БгодхновеннЪй п(ремуд)рости и въспЪанїи и оума просвЪщенїи пребывающа»65.
Из «Советования о благочестии» и сообщения архим. Захарии (Копыстенского) следует, что на 1621-1623 гг. о. Киприан все еще подвизался на Афоне, из чего можно предположить, что именно он и был на тот момент тем игуменом древнего Русика, о котором упоминается в святогорском акте за ноябрь 1619 г.
Пантелеимонов монастырь на Афоне в период с 1596 по 1623 гг. являлся важным духовным центром, из которого при поддержке Константинопольских патриархов координировались многие действия по противодействию Брестской унии и возрождению православия в Украине.
Вероятнее всего, старец Иоанн Вишенский на начальной стадии своего пребывания на Афоне подвизался именно в Русике, этом древнем центре русского святогорского монашества, где были все условия как для изучения греческого языка, так и для духовного возрастания в среде земляков и единоплеменников. Таким образом, мы можем отчасти восполнить недостающие страницы биографии Иоанна Вишенского, реконструировав как маршруты странствий, так и определив локализацию его местопребывания на Святой Горе.

Сергей Шумило,
Международный институт афонского наследия
Афонское наследие: Научный альманах («The Athonite Heritage», a Scholar’s Anthology). Вып. 3-4. — Киев – Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2016. С. 68-82
1 Шумило С. В. Старец Иоанн Вишенский: афонский подвижник и православный писатель-полемист. Материалы к жизнеописанию «блаженной памяти великого старца Иоанна Вишенского Святогорца» — К.: Издательский отдел УПЦ, 2016. — 208 с., ил. ISBN 978-966-2371-40-6; Шумило С.В. Влияние Святой Горы Афон на духовную, культурную и политическую жизнь Украины XVIII в. // Афон и славянский мир. Сб. 1. Материалы междунар. науч. конф., посв. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Белград, 16-18 мая 2013 г. – Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2014. – С. 114-116.
2 Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1980. – Т. 28. – С. 260-278.
3 Кулиш П.А. История воссоединения Руси. – СПб., 1874. – Т. 1. – С. 310, 318; Кулиш П.А. Отпадение Малороссии от Польши. – М., 1888. – Т. 1. – С. 168-173.
4 Кулиш П.А. История воссоединения Руси. – С. 319.
5 ШевчукВ.О. Іван Вишенський та його послання // Іван Вишенський. Твори. – К., 1986. – С. 16.
6 Иеромонах Игнатий з Любарова. Житие и жизнь преподобного отца нашего Иова // Великий Скит у Карпатах: У 3 т. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 1.: Патерик Скитський. Синодик. – С. 36-125.
7 Там же. – С. 61.
8 Иван Вишенский. Сочинения / Под ред. И.П. Еремина. – М.-Л., 1955. – С. 209-210.
9 Иеромонах Игнатий з Любарова. Житие и жизнь преподобного отца нашего Иова. – С. 46.
10 Там же. – С. 48.
11 Там же. – С. 48-49.
12 Иеромонах Игнатий з Любарова. Житие и жизнь преподобного отца нашего Иова – С. 49.
13 Там же.
14 Там же. – С. 52.
15 Иван Вишенский. Сочинения. – С. 78.
16 Франко Іван. Указ. соч. – С. 260-278.
17 Иеромонах Игнатий з Любарова. Житие и жизнь преподобного отца нашего Иова. – С. 50.
18 Иван Вишенский. Сочинения. – С. 209.
19 Там же. – С. 171.
20 Там же. – С. 169.
21 Там же. – С. 62-63.
22 Там же. – С. 206.
23 Роль Русского монастыря на Афоне в борьбе с Брестской унией // Русская лампада на Афоне. – Святая Гора: Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь, 2016. – С. 77-79.
24 Actes de Lavra, ed. par G. Rouillard et P. Collomp, vol. I. – Paris, 1937. – № 18. – Р. 51-52; Мошин В.В. Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI-XII вв. // Byzantino- slavica. Rocn. XI. – 1950. – № 1. – C. 32-40; ТахиаосА.-Э. Русское присутст-вие на Афоне. XI-XX вв. // Гора Афон. Образы Святой Земли. – М.: Индрик, 2011. – С. 45; История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен до 1735 года. Серия: «Русский Афон XIX-ХХ веков». – Афон: Русский Панте-леимонов монастырь, 2015. – Т. 4. – С. 70-71.
25 Алексий (Корсак), иером. Русь и Афон: преподобный Антоний Киево-Печерский – основатель афонского подвижничества на Руси // Афон и славянский мир. Сб. 3. Материалы междунар. науч. конф., посв. 1000-летию присутствия русских на Святой Горе. Киев, 2123 мая 2015 г. – Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне, 2014. – С. 23-44; Шумило С.В. Равноапостольный князь Владимир и Русский Афон. К вопросу об основании древнерусского монастыря на Афоне во времена св. князя Владимира Киевского // Русский Афон, православный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// afonit.info/biblioteka/istoriya-russkogo-monastyrya/knyaz-vladimir-kievskiy-i-afon; Шумило С. В. Преподобный Антоний Печерский и древнерусский Афон. Об афонских корнях русского монашества // Русский Афон, православный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/antonij-pecherskij.
26 Архив Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне (АРПМА). – Опись 16. – Дело 1. – Док. А000395. Купчая келлии Феодула, игумена обители Богородицы Ксилургу (1030). – Л. 1-1 об.
27 АРПМА. – Опись 16. – Дело 3. – Док. А000400. Вознаграждение игумена обители Богородицы Ксилургу (1048). – Л. 1-6.
28 Порфирий (Успенский), архим. Указатель актов, хранящихся в обителях Святой Горы Афонской. – СПб., 1847. – С. 142; Алексий (Корсак), иером. Русь и Афон: преподобный Антоний Киево-Печерский… – С. 23-44.
29 Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеи- мона. – К., 1873. – С. 68-83.
30 АРПМА. – Опись 16. – Дело 7. – Док. А000376. Акт передачи монастыря св. Пантелеи- мона монаху Лаврентию, игумену монастыря Богородицы Ксилургу (русского) и его монахам (1030). – Л. 1-8.
31 Акты Русского на Святом Афоне монастыря св. великомученика и целителя Пантелеи- мона. – С. 68-83, 89.
32 Там же. – С. 87-88.
33 История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен до 1735 года. – С. 173, 188, 202, 220-221; Августин (Никитин), архим. Афон и Русская Православная Церковь (обзор церковно-литературных связей). – СПб., 2015. – С. 34-38.
34 История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне… – С. 234, 241-244.
35 ИванВишенский. Сочинения… – С. 206.
36 Архив Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне. – № 328. – L033325. Иван Вишенский. Зачапка мудраго латынника с глупым русином. – 210 л.
37 Гаврюшина Л.К., ТуриловА.А. Исаия Серрский // Православная энциклопедия. – М., 2011. – Т. 27. – С. 141-144; Августин (Никитин), архим. Афон и Русская Православная Церковь… – С. 35.
38 Там же. – Л. 192.
39 РГАДА. – Ф. 52. – Оп. 1. – Кн. 1. – Л. 70-71 об; Сношения России с Востоком по делам церковным. – СПб., 1858. – С. 69; История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне… – С. 217, 219-220; Акты Пантелеимонова монастыря… – С. XVI.
40 Там же.
41 Российский государственный исторический архив (СПб.). – Ф. 823. – Оп. З, ед. 53; Apo- fasis // Ekthesis, albo Krôtkie zebranie spraw, ktôre siç dzialy na partykularnym, to jest pomi- estnym synodzie w Brzesciu Litewskim. W Krakowie, roku od stworzenia swiâtâ, 7104. A od wcielenia Pânâ nâszego Jezusâ Christusâ 1597. Str. 31-33; Апофазис, декрет Брестского православного собора // Памятники полемической литературы в Западной Руси // РИБ. – Т. 19. – Кн. 3. – СПб., 1903. – Стб. 329-376; Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (Х – початок XVII ст.): Збірник документів і матеріалів. – К., 1988. – С. 142-144; Тимошенко Л.В. Берестейська унія 1596 p. – Дрогобич, 2004. – С. 29-35.
42 АРПМА. – Опись 16. – Дело 62. – Док. А000407. Грамота Патриарха Иова на милостыню Русику (1591). – Л. 1.
43 АРПМА. – Опись 16. – Дело 63. – Док. А000440. Грамота царя Феодора Иоанновича о приезде в Москву игумена Русика за милостыней (1592). – Л. 1-1 об.
44 АРПМА. – Опись 18. – Дело 2. – Док. А 000586. Фирман Махмуда-паши (1569). – Л. 1; Порфирий (Успенский), архим. Указатель актов, хранящихся в обителях Святой Горы Афонской. – СПб., 1847. – № 32-19; Азария (Попцов), мон. По поводу вопроса об Афонском монастыре св. Пантелеймона. Статьи «Любителя истины». – СПб., 1874. – С. 107111; История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен… – С. 226-228.
45 АРПМА. – Опись 18. – Дело 2. – Док. А 000586. Фирман Махмуда-паши (1569). – Л. 1; История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен… – С. 226-227.
46 Там же.
47 История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен. – С. 228.
48 РГАДА. – Ф. 52. – Оп. 1. – Кн. 2. – Л. 82-83; РГАДА. – Ф. 52. – Оп. 1. – Кн. 2. – Л. 64 об- 67 об; ДимитрщевиЪ С.М. Документа хилендарске архиве до XVIII века. – Споменник Српске кр. академще, 1922. – С. 23, 27; Муравьев А.Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. – СПб., 1858. – Ч. I. – С. 137-138; Мошин В.А. Русские на Афоне и руссковизантийские отношения // Из истории русской культуры. – М., 2002. – Т. II. – Кн. 1. Киевская и Московская Русь. – С. 315; ЧДОИР. – М., 1871. – Кн. 1, отд. II. – С. 63-66; Акты Пантелеимонова монастыря. – С. XVII; История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен… – С. 229-231.
49 Иван Вишенский. Сочинения. – С. 209.
50 Аспра (греч. donpn, donpa уоци;цата – буквально означает «белый») – византийская серебряная монета, продолжившая хождение и в Османской империи под названием «акче». В Османской империи некоторое время акче была основной денежной единицей.
51 Там же.
52 РГАДА. – Ф. 52. – Оп. 1. – Кн. 3. – Л. 12; РГАДА. – Ф. 52. – Оп. 1. – Реестр 2, № 4; РГАДА. – Ф. 52. – Оп. 1. – Реестр 1, кн. 3. – Л. 202 об-204; Бантыш-КаменскийН.Н. Реестры греческим делам московского архива Коллегии иностранных дел. – М., 2001. – С. 38-39; Посольская книга по связям России с Грецией (православными иерархами и монастырями). 1588-1594. – М., 1988. – С. 146-148; Муравьев А.Н. Сношения России с Востоком по делам церковным. – СПб., 1858. – Ч. I. – С. 231, 261; Азария (Попцов), мон. По поводу вопроса об Афонском монастыре св. Пантелеймона. – С. 27, 415; История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен… – С. 238-343.
53 АРПМА. – Опись 16. – Дело 62. – Док. А000407. Грамота Патриарха Иова на милостыню Русику (1591). – Л. 1; АРПМА. – Опись 16. – Дело 63. – Док. А000440. Грамота царя Феодора Иоанновича о приезде в Москву игумена Русика за милостыней (1592). – Л. 11 об.
54 История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне с древнейших времен… – С. 242-243; Православная энциклопедия. – М., 2002. – Т. IV. – С. 147.
55 Apofasis // Ekthesis… Str. 31-33.
56 Франко Іван. Указ. соч. – С. 318-326.
57 Иван Вишенский. Сочинения. – С. 49.
58 Акты Пантелеимонова монастыря. – С. XIII-XIV.
59 АРПМА. – Опись 16. – Дело 64. – Док. А000408. Грамота царя Михаила Феодоровича о приезде в Москву игумена Русика за милостыней (1626). – Л. 1.
60 Акты Пантелеимонова монастыря. – С. XIII-XIV, XIX, 421-422.
62 Советование о благочестии. 1621 // Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. – М., 1845. – Т. 1. – С. 247-248.
63 ЯсіновськийА. Між Афоном та Венецією: інтелектуальний профіль ранньомодерного руського інтелектуала (приклад Киприяна Острожанина) // Афонское наследие: Научный альманах («The Athonite Heritage», a Scholar’s Anthology). Вып. 1-2: Материалы международной научной конференции «Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей», Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – К.-Чернигов: Издание Международного института афонского наследия в Украине, 2015. – С. 298-300; МицькоІ. Острозька слов’яно-греко-латинська академія… – С. 94-95; ГрушевськийМ.С. Історія України-Руси. – К.-Львів, 1907. – Т. 6. – С. 487; Харлампович К.В. Западнорусскія православныя школы XVI и начала XVII века, отношеніе ихъ къ инославным, религиозное обученіе въ нихъ и заслуги ихъ в ділі защиты православной вкры и церкви. – Казань, 1896. – С. 274-275.
64 Цит. по: Ясіновський А. Указ. соч. – С. 300.
65 ТітовХв. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI-XVIII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. – К., 1924. – № 13. – С. 57.
Просмотров: 677